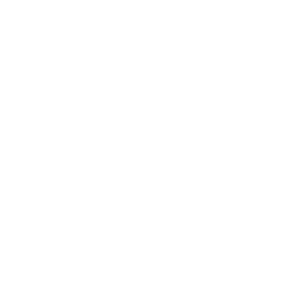ФОТО: Туфли на набережной Дуная (венг. Cipok a Duna-parton) — мемориал в память о жертвах Холокоста, установленный в 2005 году на берегу Дуная в Будапеште.
ФОТО: Туфли на набережной Дуная (венг. Cipok a Duna-parton) — мемориал в память о жертвах Холокоста, установленный в 2005 году на берегу Дуная в Будапеште.
январь 2008 года, г. Феодосия
Начало проживания нашей семьи в городе Феодосии положил наш дед — Зильбер Самуил Иосифович ещё в 1921 году, когда его по набору Дзержинского перевели из Мелитополя в Крым на борьбу с детской беспризорностью. Он был первым директором Феодосийского детского дома, который в то время расположился в одном из красивейших зданий города. Сейчас там находится детский санаторий «Волна».
Семья деда состояла из пяти человек: он, его жена — Зильбер Берта Павловна и трое детей. Старшая Анна, впоследствии наша мама, и два их сына — Изя (Израиль) и Геня (Геннадий).
Квартиру деду дали в центре города по адресу: улица Розы Люксембург, 10, кв. 1. Затем в Феодосию переехала его мать и сестра с двумя малыми детьми.
Двор, в котором мы жили, был многонациональный, но почему-то так получилось, что каждая вторая семья была еврейской. Помимо нашей большой семьи я помню семью врача Муралевича. Это был заслуженный врач. Его имя знали практически все в городе, да и не только в городе. Он снискал себе известность ещё в 1905 году, когда на броненосце «Потемкин» произошло первое массовое выступление матросов против существующего режима. Он один из всех врачей не побоялся подписать акт о том, что мясо для экипажа было доставлено с червями. Муралевич жил с женой, детей у них не было.
В нашем дворе проживала ещё семья скрипача Рискина — он, его жена и двое сыновей. Старший сын Рискиных был заслуженным строителем. За строительство Днепрогэса он был награжден орденом Красной Звезды. До войны получить такую большую награду было довольно сложно.
Помню тётю Аню Гольденберг и её дочь Софью. Семья Эмельдеш состояла из четырёх человек: дядя Миша, его жена и двое детей: дочь 1936 года рождения и сын 1938 года. Рядом с ними жила семья Жоги, в которой также, помимо родителей, было двое детей: Розочка, 1931 года рождения, и её брат Володя, 1938 года рождения, а также две тёти.
Хорошо помню старенькую бабушку Цилю, она жила одна и когда наши родители вечером уходили в кино или театр, то почему-то всех еврейских детей двора, и в том числе нас, подкидывали ей. Видно, она была очень доброй. Ещё во дворе жила тётя Рива (фамилии не помню), у неё была дочь-невеста.
Дружно и весело жил наш двор до войны. Когда началась война, деда нашего уже не было в живых. Он умер рано от гипертонического криза. Нас детей у мамы было трое (все девочки). Дядя Изя — мамин брат, был одним из ведущих специалистов на Донбассе. Дядя Геня — самый младший из Зильбер, находился в Киеве на военных сборах. Все мужчины призывного возраста с нашего двора ушли на фронт. Во дворе остались старики, женщины и дети.
Наша мама — Анна Самойловна работала завуправделами в горкоме комсомола, папа — кадровый офицер с первых дней войны на фронте. Каждый день, приходя с работы домой, мама рассказывала всем соседям двора о зверствах, которые творят фашисты на оккупированных ими территориях, о массовых уничтожениях евреев, но соседи слушали её недоверчиво, так как ещё не было трагедии Бабьего Яра. Мама настаивала на немедленной эвакуации, но все считали, что война будет недолгой и вряд ли немец сможет дойти до Крыма. Мама не находила поддержки даже у своих родных. Её мама, бабушка и тетка категорически отказывались от эвакуации. И никакие просьбы на них не действовали. Правда, в последний момент, наша бабушка, видя, что её дочь всё равно уедет и заберет детей, просто пожалела ее, ведь маме нашей было всего 29 лет, а на её руках трое детей, причем старшей — девять лет.
Итак, мы эвакуировались, но остались наши родные: старенькая бабушка, как мы, дети, называли свою прабабушку и тётя. Тётя была отличной портнихой — этим и жила. Во время сильного голода в 1930-х годах тётя похоронила двух своих детей и на этой почве слегка повредилась умом. Мама никак не могла предположить, что таких старых и убогих немец не пожалеет. Они были расстреляны одними из первых. Вместе с нами из нашего двора эвакуировалась жена дяди Миши Эмельдеш с двумя малыми детьми, а сам он был на фронте. Остальные старики, дети и женщины никуда не поехали, так как не верили в опасность, которую им нес фашизм. Думали, что немцы не «звери» и вряд ли будут уничтожать мирное население.
К моменту нашей эвакуации они уже не раз бомбили Крым, особенно порты. Уезжали мы теплоходом, в порту их стояло три и на них грузились эвакуированные. Взять с собой что-либо из вещей было очень сложно. Во-первых, было ещё лето и люди думали, что скоро вернутся домой. А во-вторых, имея трех малых детей на руках и престарелую мать, что можно было взять, кроме детей, документов, горшка для самой младшей (ей был только годик) и рюкзака с едой на несколько дней?
На теплоходе мама встретила много друзей-евреев. Это были большие семьи, большие в смысле по количеству детей. С нами эвакуировались семьи Бендицких, Авшалумовых, Шейндвальд, Галустян и другие. Хорошо помню, что было много детей, пожилых женщин и совсем не помню мужчин — ни старых, ни молодых.
Одна из женщин, увидев, что наша мама взяла горшок для малышки, решила сбегать к себе домой, пока теплоход не отошёл. Жила она возле порта, в доме, где находился банк на втором этаже. Вернулась она очень быстро, но бледная и очень расстроенная. На вопрос нашей мамы: «Фира, что случилось»? Она ответила: «Соседи грабят квартиру, даже не дождавшись пока теплоход с эвакуированными отойдёт от причала».
Делать замечание и взывать к совести у этой женщины не было времени, да и что бы это дало. Поэтому она молча взяла утюг и им перебила зеркала и оставшуюся посуду.
Эвакуировались мы сначала на Кубань — станица Усть-Лабинская, а затем, когда немец стал приближаться к Кубани, мы отправились дальше в Среднюю Азию. Сначала мы жили в Чарджоу Кабардино-Балкарской Автономной Республике, где мама и бабушка работали на консервном заводе. Тогда все трудились для фронта, жили в Нальчике, а затем, по мере приближения немца, мы уезжали все дальше вглубь страны. Наши эшелоны бомбили немцы. Много эвакуированных погибло под бомбежками. Мы выжили чудом. Так мы оказались в песках Кара-Кум. Из феодосийцев с нами были Бендицкие: тетя Мина и двое её детей Эдик и Майя (дядя Яша воевал в авиации) и Теплицкая тетя Катя с двумя сыновьями. Жили мы в небольшом ауле среди песков. Взрослые работали на хлопковых полях, а мы, дети, были предоставлены сами себе. В ауле жило несколько семей — четыре туркменских и три эвакуированных, ни школы, ни садика не было. Взрослые работали с 5 утра до 10 вечера, правда, летом с перерывом на обед с 12 и до 4 дня, так как жара в это время стояла до +50–60 градусов. Пески раскалялись так, что ходить было невозможно. Весной все, даже малые дети, занимались разведением тутового шелкопряда. Нам, детям, очень нравилось, играть с этими разноцветными коконами, они были голубого, желтого и белого цветов. В то время в Туркмении еще сильно было развито басмачество. Басмачей все очень боялись, так как они могли за ночь вырезать весь аул, но эвакуированных они не трогали. У них были свои враги, своя месть. Днем они прятались где-то в песках, а ночью выходили на охоту.
Известие об освобождении Феодосии от фашистов нас застало в Ашхабаде, куда мама ходила за сводкой Совинформбюро. Мама немедленно отправила запрос в Феодосийский исполком, чтобы нашей семье прислали вызов. Феодосия была освобождена в апреле 1944 г., а уже в июле мы получили вызов и в августе 1944 года мы вернулись в родной город.
Город встретил нас развалинами. Прямо с вокзала мы отправились домой. Двор наш (в смысле строений) пострадал мало. В нашей, и в других квартирах жили чужие незнакомые нам люди. В нашей квартире жил художник из Риги со своей семьей. Никто уступать нам наше же жилье не собирался. Смотрели на нас враждебно, даже вслух говорили, что никто нас не ждал.
Мама, имея на руках вызов, отправилась в горком партии, а затем в милицию. После этого нам выделили одну из трех комнат расстрелянных Муралевичей. Бабушка, взяв нашу старшую сестренку Аллу, обошла все квартиры нашего двора в надежде встретить кого-либо из довоенных соседей или хотя бы узнать их судьбу. А также узнать, если повезет, о своем младшем сыне, который с первых дней войны воевал под Киевом и от которого за все это время она получила только одно письмо, написанное в минуту затишья между боями на плакате «Враг будет разбит, победа будет за нами!» Подлинник этого письма я отдала М. Гольденбергу для музея. Помню, в его письме были такие слова: «Очень хочу в сентябре быть уже дома и вдоволь наесться винограда, но видно в этом году кислым выдался виноград». И дальше он писал: «Но вы, мои родные, не волнуйтесь, мы не пустим врага в Киев».
В некоторых квартирах бабушка видела наши вещи: шифоньер, диван, этажерку для книг, кровать и многое другое, даже наш довоенный патефон. Но вернуть практически удалось слишком мало: один шифоньер, подушку и этажерку. Многие не отрицали, что это вещи не их, но тут же добавляли, что если бы ещё вчера знали, что может вернуться хозяин, то лучше бы порубили или спалили всё.
Из всех евреев, живших до войны по адресу ул. Розы Люксембург, 10, после освобождения Феодосии оказалось слишком мало. Мы вернулись из эвакуации, а следом за нами тетя Аня Гольденберг со своей парализованной матерью. Им, как и нам, дали одну из комнат квартиры Муралевичей. Затем вернулась Эмельдеш с двумя детьми, но ей уже ничего не дали из жилья в нашем доме.
Всех оставшихся евреев нашего большого дружного двора расстреляли, кроме детей Жоги — они прятались в чужих семьях, в других концах города.
Вернувшись из эвакуации, узнав о пропавших без вести и расстрелянных родных и знакомых, мы начали обживать хоть и не своё, но всё-таки жилье. Семья наша состояла из пяти человек: бабушка, мама и нас трое детей. Папа был ещё в армии. Жили мы все в одной комнате. Всем в то время было трудно, поэтому радовались и этому, а главное тому, что выжили в этом страшном аду.
Постепенно стали возвращаться из эвакуации друзья наших родителей. Вернулись Авшалумовы — тетя Сима с двумя детьми, Шейндвальд, Бендицкие и другие. Все они, пока не устроятся с жильем, останавливались у нас. Так как комната была одна — спали кто где, в основном, на полу, но были счастливы, что живы.
Меня очень поражали и удивляли выражения женщин, когда они говорили: «Какое счастье, что мы спасли детей, а то как бы смотрели в глаза мужьям нашим после войны». Это сейчас я хорошо понимаю, что дети для еврейской женщины это всё.
Находясь в эвакуации, мы многое пережили: и бомбежки, и голод, и страшную малярию, которая нещадно косила людей, но об ужасах массовых расстрелов мы только слышали, а не видели всего того, что пережили оставшиеся в городе евреи.
Однажды глубокой осенью 1944 года поздно вечером к нам зашел начальник Феодосийского НКВД Ручкин дядя Саша и пригласил маму в качестве понятой на обыск комнаты соседки Поповой. Она занимала, как и мы, одну из комнат квартиры расстрелянного врача Муралевича.
Дети всегда любопытны, к какой бы нации они не относились, поэтому на бабушкины покрикивания «Поздно, идите спать», мы все равно, хоть в приоткрытую дверь, пытались разглядеть, что там происходит.
У Поповой было два сына — один лет 10–12, а второй маленький — лет 4 или 5. И вот при обыске моё внимание привлекла детская обувь: она была почему-то не парная, то есть по одной штучке с пары. Я была удивлена, особенно когда увидела красную девичью туфельку. Она мне показалась очень красивой, и я спросила у дяди Саши: «А где же другая туфелька»?
На что этот суровый военный с грустью сказал мне: «Запомни, это обувь с расстрелянных еврейских детей. Ваша соседка выдавала еврейские семьи, а себе, как сувениры, оставляла детскую обувь по штучке от каждой пары выданного ею ребенка». Мне стало страшно. Попову увели в ту же ночь, детей отдали в детский дом. Что стало с ними в дальнейшем мне неизвестно.
И сейчас, когда я прохожу мимо нашего старого двора, у меня в памяти встает дядя Саша Ручкин и эти детские башмачки. Забывается, а возможно просто притупляется, боль и память о погибших родных и соседях, но эти башмачки я не забуду никогда. И сейчас, когда мои внуки спрашивают меня о Холокосте, я им рассказываю не об эвакуации, а о детских непарных туфельках.
Статистика утверждает, что на территории бывшего Советского Союза трудно найти семью, которая бы не пострадала в годы войны. Но те же статисты не подчеркивают, что среди еврейского народа не только невозможно отыскать семью, не пострадавшую от фашизма, но и многие семьи были полностью уничтожены проклятыми фашистами.
И забывать об этом нельзя!