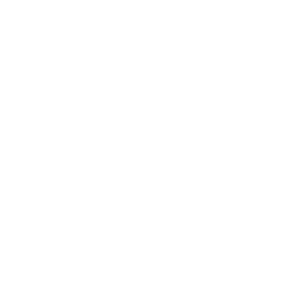ФОТО: Ансамбль Александрова провожает части РККА на фронт, 1941.
ФОТО: Ансамбль Александрова провожает части РККА на фронт, 1941.
Опубликовано: Доклад, КРУГЛЫЙ СТОЛ. «Евреи в Великой Отечественной войне: вклад в победу», ОП РФ. 27.05.2015.
Юрий Шушкевич
На музыкальном фронте шли сражения за главное в человеке
В годы Великой Отечественной войны композиторы еврейского происхождения внесли неоценимый вклад в возрождение русской песни. А в знаменитом «Синем платочке» Ежи Петерсбурского был воскрешён скрябинский аккорд, останавливающий хаос.
В нынешние дни, всё более отдаляющие нас от военного лихолетья, понемногу начинает приходить понимание, что смертельная борьба разворачивалась в те годы не столько за территории и ресурсы, сколько за право оставаться людьми. Причём не просто за возможность выжить и уцелеть – а сохранить право на то, чтобы будущим человека оставался именно человек, как сказал когда-то восхитивший Сартра Франсис Понж.
Между прочим – это не такое уж тривиальное и очевидное право, поскольку идеи о сведении человеческой полноты к винтику, механизму или функции в сегодняшнем мире продолжают жить и распространяться с пугающими силой быстротой.
В те далёкие годы на фоне обескураживающего бессилия «западных демократий» перед тоталитарной гитлеровской машиной, за считанные годы со страниц антиутопий Хаксли и Замятина шагнувшей в воплощённую реальность, готовность противостоять расчеловечиванию пришла из страны, многими к тому времени уже списанной со счетов. Причём особую роль в свершившемся тогда преображении России сыграли – и это нисколько не преувеличение! – советские евреи.
Накануне войны евреи СССР одними из первых осознали трагическую глубину экзистенциального выбора, во весь рост вставшего перед цивилизацией, и сумели весьма много сделать для того, чтобы после Победы люди сохранили возможность продолжать радоваться солнцу, любить, верить и хранить надежду в своих сердцах.
Вот почему в те годы евреи воевали не просто достойно, «на уровне», но в значительном числе случаев «выше уровня» – грамотно, дерзко и истово, при этом неважно, где при этом проходил фронт – на линии ли огня, в смертельных водоворотах разведки, в цехах ли оборонных заводов или КБ, где рабочий день зачастую длился по 18-20 часов, а потеря здоровья и даже гибель от нервного и физического истощения считались делом заурядным… Феномен этот нельзя объяснить тривиальным представлением о том, что именно для евреев германский нацизм являл опасность большую, нежели для других народов СССР, или, вторя клише фашисткой пропаганды, утверждать, что евреи-де считали советскую власть более «своей», нежели, скажем, русские, украинцы или татары.
Мне видится, что причиной особенного отношения советских евреев к своему гражданскому и патриотическому долгу являлось исключительное внимание, которое среди них уделялось представлениям и образам будущего, опирающимся на взявший стремительные обороты научно-технический прогресс и продекларированную в СССР принципиально новую систему общественных отношений, к тому времени ещё не успевшую явить системных сбоев. Ведь чтобы победить невероятно сильного и изощрённого врага, было недостаточно одной лишь идеи сбережения, выраженной в бессмертных строках Анны Ахматовой – «…мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Наряду со сбережением и сохранением, требовалась также ещё и идея созидания принципиально иного, невероятного и совершенного абсолютно – и так уж вышло, что рождённые в начале XX века идеи русского футуризма к сороковым годам в наибольшей степени оказались укорененными в среде технической и творческой интеллигенции, в рядах которой евреи СССР играли более чем заметную роль.
И если в годы войны советские ученые, инженеры конструкторы с утроенной энергией создавали лучшие в мире системы вооружений, а начиная с 1943 года развернули грандиозную работу над собственным атомным проектом, который уже тогда виделся многим не в виде бомбы, а как бесконечный источник энергии и созидательных сил, – то в области художественного творчества невыхолощенная энергия футуризма нашла совершенно особый способ выражения: из сферы абстрактных и оторванных от реальности мечтаний и проектов она перетекла в область живых человеческих чувств. Прежние представления о великих надличностных переменах внезапно трансформировались в идеи личного человеческого будущего и неповторимости личной судьбы, кристаллизовавшиеся в удивительных и не похожих ни на что прежде художественных образах военных лет.
Поэтому если «культурный фронт» Германии за годы войны не поднимался выше банальных водевилей с Марикой Рёкк, а у наших союзников эксплуатировались, в основном, довоенные развлекательные концепты в духе Эллингтона и Глена Миллера, то в СССР практически с первых же войны дней образовалось совершенно новое культурное пространство. Оно помогало не «расслабляться» от военных тягот и лишений, не программировало на бой и жертву, а наполняло сердца переживаниями новой жизни, которая обязательно настанет, которая будет прекрасной и ради которой не жалко отправиться на смертельный поединок.
Эта культурная реальность, в которой технический и социальный футуризм тридцатых годов неожиданно переплавился в жаркий сгусток глубинных и задушевных энергий, без преувеличения стала мощным и непобедимым оружием, громившим врага и приближавшим Победу.
Надо сказать, что подобное преображение не было простым и гладким. Принципиальная и необратимая смена эпох, состоявшаяся 22 июня 1941 года, дезориентировала значительную часть советского творческого сословия. Многие замолчали, другие в годы военного лихолетья смогли создать произведения явно не первого ряда. Третьи – прежде всего представители старшего поколения – в силу ли возраста или просто от невозможности принять новую смысловую парадигму, теряли опору и зачастую элементарно отказывались позаботиться о собственном выживании. Подобным трагическим образом завершился жизненный путь Макса Кюсса, автора знаменитых «Амурских волн» и капельмейстера Красной Армии в отставке, который отказался покинуть родную Одессу, где вскоре был расстрелян гитлеровцами. А замечательный поэт-песенник Михаил Голодный (Эпштейн), автор «Песни о Щорсе» и «Матроса Железняка», пройдя фронтовым корреспондентом по дорогам Великой Отечественной, по какой-то причине эстетически не смог принять и укоренить в своём творчестве новые образы и смыслы. Оставаясь одним из наиболее ярких творцов «мифа тридцатых» – и одновременно его же пленником, – в 1949 году он погибнет в автодорожном происшествии практически при тех же обстоятельствах, как годом ранее С.Михоэлс…
Так что вопреки бытующему мнению, творчество на войне не только обеспечивало относительный тыловой комфорт и раздавало награды, но и собирало свою печальную жатву. Особенно грустно, когда таланты уходили совершенно молодыми – как случилось с многообещающим композитором Борисом Гольцем, оставившем серьёзную музыку ради написания военных песен и дирижирования оркестром политуправления в блокадном Ленинграде. Продержавшись самую страшную, первую блокадную зиму, он погибнет от истощения в свои 28 лет…
Надлом и крушение романтического «мира тридцатых» наиболее сильно ударили по его признанным певцам, среди которых оказался и «композитор №1» нашей довоенной поры – Исаак Дунаевский. «Второе дыхание» в его творчестве откроется только в 1945 году (вновь с бесконечно оптимистичной и жизнеутверждающей песни «Ехал я из Берлина»), а все годы войны Исаак Осипович предпочтёт просто трудиться на более чем скромной для его статуса должности художественного руководителя ансамбля железнодорожников. И тем не менее, весной 1942 года мэтр создаст и подарит стране «Песню о Москве» («Я по свету немало хаживал…»), ставшую не только клятвой стойкости и верности, но и мостом, соединяющим ушедший довоенный мир («Я люблю подмосковные рощи…») с миром новым, который предстоит отвоевать («И врагу никогда не добиться…», «День придёт – мы разгоним тучи…»). Стихи для этой песни, которая спустя годы станет официальным гимном Москвы, написал молодой поэт Марк Лисянский. В первый же месяц войны Лисянский получит должность в ярославском отделении Союза писателей, предполагающую бронь и право на эвакуацию, однако предпочтёт уйти добровольцем в Красную Армию, в рядах которой примет участие в кровопролитных оборонительных сражениях Западного фронта, а после – в битве за Москву, где будет ранен – и едва подлечившись, спеша возвратиться на фронт, проездом оставит в редакции «Нового мира» стихотворный набросок будущего шедевра… Как всегда в подобных случаях вряд ли предполагая, какой великой славой способны со временем обернуться совершённые по велению совести поступки, а также мысли, исходящие от обнажённых и честных струн души.
Пусть к человеческому сердцу через мелодию и песню – всегда наиболее прямой и короткий, поэтому произведения песенного жанра в годы войны не должны были ограничиваться вещами исключительными и редкими. Пожалуй, создателем наиболее массовых песенных шедевров военных лет (именно шедевров, поскольку термин «шлягер» применительно к той эпохе неприемлем) был Матвей Блантер. Из-под его пера вышла и прогремевшая на весь мир искромётная «Катюша», и согревавшие ожесточившиеся от ужасов войны солдатские сердца «Моя любимая» и «В лесу прифронтовом», и вдохновляющая предчувствием скорой победы и красотой мирной жизни мелодия знаменитой песни «Под звёздами балканскими» («…хороша страна Болгария, но Россия лучше всех!»).
Упоминавшаяся выше энергия футуризма в музыке Блантера нашла своё уникальное и ни на что прежде не похожее «приземление» через синтез мелодического богатства еврейской музыкальной традиции с глубиной русского лиризма, а также с блюзовыми и свинговыми интонациями, подчеркивающими неумолимое и однозначно позитивное присутствие современности.
Разумеется, что в СССР, исповедовавшем интернационализм, творческие школы «союзного уровня» старались избегать даже намёка на разделение по национальным квартирам. И надо сказать, что этот «плавильный котёл» советской культуры функционировал весьма продуктивно. Композиторы разных национальностей, трудившиеся в едином цеху и во имя единой цели – Победы, – не просто взаимообогащались интонациями и мелодическими открытиями друг друга, но и состязались в выразительности, глубине и точности путей к сердцам своих слушателей, которые тоже не делили себя, а гордились, что являются единым советским народом. Отсюда творчество композиторов-евреев следует воспринимать как часть единого процесса, в котором они творили бок о бок с А.Александровым, В.Соловьёвым-Седым, А.Новиковым, Ю.Милютиным, Б.Мокроусовым, Т.Хренниковым, Н.Богословским, Д.Васильевым-Буглаем, Л.Бакаловым, В.Хачатуряном, В.Мурадели, с успевшими внести немалый вклад в песенную лирику первой половины сороковых представителями дореволюционной русской традиции А.Вертинским, В.Козиным, Б.Фоминым и многими, многими другими…
Поскольку распространённое в мирные годы контурное и прямолинейное видение грядущего, сделавшееся в годы войны невозможным и потому перешедшее в область чувств и переживаний, подобно спрессованной пружине продолжало хранить запас энергии для будущих счастливых и созидательных дней, то обращение к внутреннему миру человека порождало удивительные и навряд ли возможные в иной обстановке резонансы. В этом кроется объяснение феномена, когда композиторам еврейского происхождения удавалось создавать множество песен, которые по сей день почитаются народными и совершенно русскими. Многие ли сегодня помнят, что автором мелодии легендарной «Землянки» («Бьётся в тесной печурке огонь…») является сын циркового артиста из Одессы Константин Листов? А встретивший войну 27-летним бойцом Юго-Западного фронта Марк Фрадкин, которого уже 1941 году за «Песню о Днепре» отметят Тимошенко и Хрущёв, автор прогремевших вскоре «Дорогой на Берлин» и «Случайного вальса», спустя годы напишет эпическую мелодию «Тёчёт река Волга», которая сразу же снискает любовь миллионов и сделается частью народного мироощущения?
И в силу, наверное, всё того же закона автором бессмертной музыки к знаменитым «Журавлям» на стихи Р.Гамзатова и непревзойдённого в лирическом благородстве и смысловой полноте «Русского поля» будет Ян Френкель, в 1942-1943 гг молодым бойцом успевший сполна познать фронтовую правду в окопах и госпиталях…
Другой пример произведения, сделавшегося народным и нисколько не стареющего с годами и переменами эпох, поскольку заставляет резонировать самые глубинные, экзистенциальные струны, – это песня на музыку Евгения Жарковского «Прощайте, скалистые горы». Достигающее в ней высших ступеней сочетание мужественности и лиризма справедливо назвать главным мотивом и «секретом» всей советской песенной лирики военных лет. Однако если бы в глубине тех песен не отражалась простая человеческая надежда и вера – они навсегда остались бы уделом историков и музыковедов, и по прошествии времени не звучали бы вновь и вновь, всякий раз притягивая молодых исполнителей и пленяя публику неубывающей эмоциональностью и вскипающей энергией подлинного, полнокровного бытия.
Причём данная энергия угадывается буквально за любым словом, бьёт из каждой мелочи или бытовой детали – как в неувядающем шедевре Модеста Табачникова и Ильи Френкеля «Давай закурим», который исполняли и будут продолжать исполнять с прежними задором и исповедальным вдохновением невзирая на любые современные запреты и чудеса пропаганды здорового образа жизни!
Помимо сказанного, лучшие песни фронтовых лет объединяет уважительное и в высшей степени деликатное отношение ко внутреннему миру человека. За исключением разве что произведений бравурных и ситуативных, и потому навсегда оставшихся в границах собственной истории, – так вот, эти идущие от сердца к сердцу песни той страшной и одновременно высокой эпохи – все они сродни светской молитве.
Но в том ряду есть одна, значение которой нельзя академически оценивать, сухо сравнивать или тривиально обсуждать, поскольку всю войну – абсолютно всю, с первого и до последнего её дня! – она являлась и утешением, и талисманом, и хранителем самых сокровенных и трепетных надежд. Иными словами – была главной светской молитвой той огненной поры.
Конечно же, это – «Синий платочек».
Его незатейливую вальсовую мелодию написал в 1940 году нашедший пристанище в СССР после разгрома Польши «польский еврей с неподражаемо имперской фамилией» – Ежи Петерсбурский. Довоенная Польша, к слову, была удивительным местом – осколок империи, где многие продолжали говорить по-русски и где в какой-то мере задержался наш Серебряный век… С другой стороны, есть также и высший смысл, и очевидная мистика в том, что мелодия «Синего платочка» была не привезена в нотном блокноте эмигранта, а родилась и прозвучала именно на русской земле.
Символизм последнего связан с тем, что при всей внешней простоте «Синего платочка» в нём имеется удивительный аккорд, созвучный с аккордом, посредством которого в фортепьянном этюде №5 до диез минор Александра Скрябина останавливается и разрешается тема нарастающей тревоги и катастрофы. Даже если это заимствование являлось неосознанным (хотя цитирование в музыке – явление обычное и в большинстве случаев необходимое), то вряд оно ли было случайным. Дело в том, что безвременно погибший в 1915 году Скрябин – единственный из композиторов, кто воспринимал музыку не в качестве развлечения или управляемой мистерии, а как одну из первородных и грозных природных сил, способных сокрушать или вершить мироздание, и вещи свои он создавал, имея в виду призвание этих космических сил во имя самого что ни на есть прямого и решительного воздействия на окружающую нас реальность. Поэтому останавливающий хаос скрябинский аккорд, будучи возрождённым в мелодии Петерсбурского, сумел сотворить невозможное: объединив в едином порыве нежность, крепость духа и надежду на возвращение к гармонической полноте, он остановил и вернул на место надломившуюся ось истории.
Так эстрадный шлягер польского эмигранта на стихи московского поэта и драматурга Якова Галицкого, в последние мирные месяцы в изобилии проливавшийся из радиоприёмников и репродукторов танцплощадок, с первыми же разрывами бомб и гудками уходящих на фронт составов сделался выражением клятвы верности разлучаемых войной сердец («Вздрогнут колёса вагона, поезд помчится стрелой, ты мне с перрона, я с эшелона грустно помашем рукой» / Борис Ковынёв). А в начале 1942 года, уже со словами Михаила Максимова – песня станет главной светской молитвой поднявшегося на беспримерную битву народа, в которой слова верности сольются с мотивом мужества и несокрушимой веры в то, что любимый и желанный синий платочек будет, по крайней мере, отомщён.
Подобно любой молитве, «Синий платочек» обращался к самому заветному в человеческом сердце, при этом не обещая великодушно взамен, как обычно водилось, ни великих побед, ни государственного триумфа, ни даже исторической справедливости. Напротив, его адресование было утончённо-личностным, отчего оно воздействовало с утроенной энергией и силой. Но самое невероятное – оно не сулило даже того минимума, о котором традиционно старались говорить, писать и пропевать в годы испытаний: ни счастливой встречи с любимой после окончания войны, ни даже сохранения самой жизни; слова песни лишь утверждали, а музыка с невероятной убедительностью интонировала, что непременно останутся только любовь, верность и память. Но останутся обязательно, сохранятся вне зависимости от превратностей личной судьбы – ну а коль скоро так, то напрасно и безутешно никто не погибнет!
И когда сегодня «Синий платочек» звучит вновь, мне иногда кажется, что миллионы невернувшихся с той войны каким-то непостижимым образом вдруг пробуждаются и прислушиваются к его знакомым, как «Отче наш», заученным до последней ноты мелодии и словам. Прислушиваются – и понемногу начинают улыбаются из своего звёздного далека. Ибо песня не обманула – мы действительно продолжаем помнить.